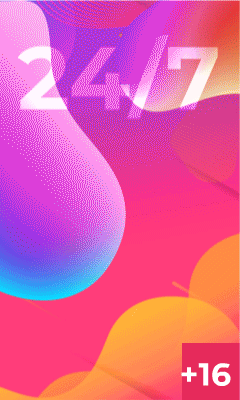На доклад Мятлева о землепроходстве Соймонова императрица Анна Иоанновна ответила пожалованием последнего в губернаторы Сибири с чином тайного советника.
Девятый из десяти сибирских губернаторов Федор Соймонов стал начальником 77 процентов территории России, сменив на этом посту своего флотского приятеля Василия Мятлева. С началом Семилетней войны Мятлева отозвали к участию в баталиях, и он предложил на свое место…недавнего кандальника Соймонова. Впрочем, этот каторжанин после освобождения успел много полезного сделать во имя Отечества.
Знакомец Беринга, Сибири управитель
По предложению все того же Мятлева Соймонов принял участие во Второй Камчатской экспедиции, в которую отправились знаменитые исследователи Беринг, Челюскин, братья Лаптевы. Соймонову было поручено возглавить исследования рек Шилки и Амура. Опытный картограф, он составил многочисленные карты, атласы и описания, разведал новые безвестные пути и места поселения для русских. Эта экспедиция впервые описала отдельные участки побережья Северного Ледовитого океана и Камчатки. Ее участники нанесли на карту Южные Курильские и частично Алеутские острова, доказали отсутствие каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой и подтвердили существование пролива между Азией и Америкой. Был собран серьезный научный материал по этнографии, геологии, основательно уточнены географические карты региона.
На доклад Мятлева о землепроходстве Соймонова императрица Анна Иоанновна ответила пожалованием последнего в губернаторы Сибири с чином тайного советника, а также с жалованием 2000 рублей в год.
Как и любой на его месте, 65-летний губернатор занялся ревизией доставшейся ему для правления страны смирения. При всей его богатой на события жизни, удивлению некоторыми местными особенностями не было конца. Позже Салтыков-Щедрин напишет, что если на святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет, да так до конца жизни столбом и простоит. Соймонов мог «простоять» от имевшегося в Сибири «искусства секретарской прибыли»: у иного секретаря, писал он, дед имел капиталу серый кафтан, бобровую шубу да корову с парой свиней и пятком куриц. Отец имел малую деревеньку. А у внука-секретаря, откуда ни возьмись, 2000 душ крестьян. Спроси его: «Где взял?», скажет: «Купил». «Где деньги взял?» — «Трудами нажил». А труд этот, по Соймонову, состоял «единственно в том, что он деньги считал», взятые с несчастных, стремившихся откупиться от чиновника-грабителя любой ценой. И новый губернатор решил с этим покончить.
Тарского (нынешней Тары Омской области. — Прим. авт.) воеводу Кульнева, уличенного во взятках, Соймонов отстранил от должности и отдал под суд. Другого взяточника, поручика Пьяного, отправил в солдаты. Кузнецкого же дворянина Мельникова, не заплатившего ямщикам положенных денег, он и вовсе посадил на цепь. Кстати, деньги для уплаты с лихвой нашлись уже на следующий день.
В Тобольске Федора Соймонова удивил заброшенный гостиный двор, который должен был, но не приносил пользы казне… Его номерной фонд занимали всевозможные конторы и учреждения, а в подвалах вместо тюков с товарами стояла вода. Все потому, что при бывшем до Мятлева губернаторе Сухареве рядом с гостиным двором был вырыт пруд для трех пар губернаторских лебедей, и вода от него залила все кругом. Вскоре гостиный двор был отремонтирован, а средства от аренды лавок изрядно пополнили местный бюджет.
Вообще на посту губернатора Фёдор Соймонов проявил себя талантливым и инициативным администратором. В Охотске он открыл мореходную школу. Улучшил условия судоходства на озере Байкал — были построены новые суда, обустроены гавань и маяк. По приказу нового начальника Сибири в Анадыре был закрыт острог, который разорял местных жителей, снабжавших его провизией. По инициативе Соймонова была открыта геодезическая школа в Томске, были переписаны ясачные инородцы, заселены берега Амура…
Федор Иванович капитально изменил разбирательство доносов, которые во множестве поступали в губернскую канцелярию и стали настоящим бедствием Сибири. Сотни несчастных томились в тюрьмах, ожидая, пока «изветы» (доносы на них), будут рассмотрены в Петербурге. Только на доставку в Тайную канцелярию арестованных по доносам за десять лет было израсходовано 14 000 рублей! Отныне же дела, не связанные с оскорблением государя, рассматривались на месте и редко заканчивались отправкой арестованных в столицу.
Был серьезный конфликт у Соймонова с митрополитом Тобольским и Сибирским Павлом (Конюскевичем), имевшим независимый и суровый нрав. Не менее принципиальный губернатор запретил ему силой обращать в христианство сибирских татар, разумно полагая, что все должно делаться добровольно. Как-то дошло до прямого конфликта, и случилось это в день, когда необходимо было присягать императору Петру III. Митрополит заявил, что нужно отложить церемонию на день, пока ему не доставят из ризницы «надлежащих архиерейских одежд», и категорически отвергал все аргументы противников такого решения. Не стерпев неуместного формализма, Соймонов возмутился, заявив архиерею, что присяга состоится в любом случае — с ним или без него. Дрогнувший священнослужитель уступил и, надев мантию, отправился в собор.
Жители огромной Сибири были довольны и гордились своим губернатором, относились к нему с почтением. На хорошем счету он был у царицы Екатерины II, получив от нее даже орден Александра Невского.
Но…к успешному губернатору подкралась старость — Федору Ивановичу шел восьмой десяток. Многолетние странствия по морям-океанам не принесли здоровья, а уж случившаяся в его биографии каторжная жизнь добавила болячек… Необходима была передышка, а то и вовсе отход от активной деятельности.
И в 1763 году императрица уважила очередную просьбу 70-летнего вельможи и приказала отдалить его от дела заведования губернией. 14 марта Федор Иванович приехал в Москву, уже навсегда. Впервые за многие годы он опять смог с головой уйти в милую сердцу науку. Например, общаться с отцом Сибирской исторической науки Герхардом Миллером, переписываться с Михаилом Ломоносовым, составлять собственные сочинения по истории и географии России. Между прочим, Екатерина II познакомила его с новым сибирским губернатором Денисом Чичериным. Она попросила Федора Ивановича научить молодого преемника всему, что ему пригодится на Сибирском правлении, поскольку сменщик «человек добрый, честной, только он губернских дел не знает, потому в гвардии служил». Вскоре к 43-летнему Денису Ивановичу прикрепляется прозвище «сынок Соймонова», скорее шутливое, чем обидное.
А московский дом Соймонова становится настоящим приютом сибиряков, где собираются все те, кому дорог этот край. Здесь обсуждаются проекты законов и уложений, составляются планы, заключаются соглашения. А еще, по настоянию императрицы, Федор Иванович становится сенатором, правда, с оговоркой «не посещать заседания, не относящиеся к Сибири». В отличие от многих своих ровесников, он не стал свадебным генералом. Выступления Соймонова были по-прежнему основательны, деловиты, они попортили немало крови казнокрадам всех мастей. Например, доклад сенатора Соймонова стал одной из причин ликвидации доселе могущественного Сибирского приказа, превратившегося со временем в чиновничью кормушку, дорого обходившуюся казне. В то же время по решительным заявлениям Соймонова была прекращена многолетняя военная операция по покорению Чукотки — кровопролитная и безрезультатная. Бывший путешественник Федор Иванович понимал, что «надлежит с теми чукоцкими и протчих родов бунтовщиками не столько военною рукою поступать, сколько ласкою, благодеянием и добрым с ними обхождением».
Лишь в 1766 году Соймонов окончательно отходит от государственных дел. Впрочем, вряд ли «окончательно» — дело, которым он занялся далее, также носило государственный характер. Фёдор Иванович начал писать «Историю Петра Великого», сочинение, над которым он работал все последние годы. Писал и, конечно, вспоминал о многом.
Из «заморян» — на Балтику и Каспий
О том, например, что он происходил из древнего рода Соймоновых, начальные упоминания о котором относятся к XV веку. Иные его биографы утверждают, что «Соймон» — слово тюркского происхождения, означающее «ловкий, увертливый, бойкий». Другие исследователи полагают, что это народная форма крестильного имени Соломон. Более близкие к морскому делу говорят о «сойме» — палубном судне с мачтой. Как бы то ни было, Соймоновы служили престолу на протяжении многих веков, занимали порой высокие должности, но «палат каменных» так и не нажили. Во всяком случае, за отцом Федора Ивановича числилось всего 22 крестьянских двора, что вряд ли считалось большим богатством.
Федору Ивановичу Соймонову повезло в том смысле, что его молодость пришлась на бурлящую петровскую эпоху, время, когда Русь вставала на дыбы и делалась Россией. В мощном водовороте судеб и явлений многие пропадали навсегда, при всех званиях и капиталах. Для представителя обедневшего дворянского рода в это время обозначился едва ли не единственный путь сделать имя и карьеру. А там, глядишь, и состояние. Все это можно было добыть доблестной службой во славу Отечества.
В 1708 году 16-летний Федор Соймонов поступает в основанную Петром Великим Московскую навигацкую школу. В ее стенах готовили морских судоводителей и кораблестроителей. Однако многие выпускники школы выходили из нее картографами, архитекторами, артиллеристами, инженерам. И учились там, и учили более чем серьезно, если математическим отделением командовал знаменитый в те времена автор учебника арифметики Леонид Магницкий.
Весь курс школы будущий мореход одолел в три года, после чего в качестве одного из лучших выпускников был причислен к «заморянам»,отправлявшимся за границу для продолжения обучения. Задачу, стоявшую в Голландии перед вчерашними учениками, определил сам царь-император: «учиться навигации зимой, а летом ходить на море на воинских кораблях и обучаться, чтоб возможно потом морскими офицерами быть».
Всего в Голландию было отправлено 26 «заморян», получивших на руки «свидетельствованные грамоты», тогдашние загранпаспорта, а также по 115 рублей на «прокормление за морем». В Нидерландах и заграничных плаваниях Федор Соймонов проведет немного, но все же более двух лет. Это было непростое для юноши время, ведь надо было учить языки, осваивать на практике сложную профессию, да и просто выжить на те гроши, что изредка присылались с родины. И все же Федор достойно выдержал свой экзамен. Он выучил голландский, немецкий и латинский языки, в совершенстве изучил мореходное дело и получил звание гардемарина.
Не сторонился он самой грязной и трудной работы, на практике постигая все азы завтрашней профессии. Потом уже Федор Иванович вспоминал, как однажды голландский адмирал-гер, посетив одну из верфей Амстердама, стал свидетелем необычной картины. В такелажной стояли несколько матросов, одетых в грязные матросские робы, и вязали канаты. Сама сцена эта была вполне заурядной и не вызывала удивления. Адмирал-гера поразило другое: из-под парусиновой одежды «матросов» выглядывали рубахи тонкого голландского полотна, а на ногах виднелись шелковые чулки. Когда адмирал понял, что перед ним российские дворяне, прибывшие на учебу, недоумение бывалого морехода сменилось восхищением. Он пригласил гардемаринов к себе на обед, всячески хвалил и вспоминал, как прежде видел на этой верфи Петра Великого, обтесывавшего лес как простой плотник. Подводя итог этому эпизоду, Федор Иванович резонно замечал, что «весьма прилично офицеру, зная всякую работу, приказывать и указывать, нежели, не зная, что делают, одним смотрителем быть».
В 1715 году гардемарин Соймонов возвращается на родину и сдает экзамен на мичмана. Его направляют служить на 64-пушечный (!) корабль «Ингерманланд», бороздивший воды Балтийского моря. Это было серьезным признанием: строгую «баллотировку», проходившую в присутствии самого Петра I, выдержали только 17 гардемарин из 48. Думается, император не пожалел об этом решении. Отважный и умелый мичман служил ему верой и правдой, а спустя четыре года получил особое задание.
Несмотря на сильно затянувшуюся Северную войну коалиции прибалтийских государств со Швецией, целый ряд прочих крупных проектов, деятельный император не забывал и о восточном направлении имперской русской политики. Взоры Петра были обращены в сторону Средней Азии, — ключа к далекой богатой Индии, загадочному Востоку. Первые русские экспедиции на Каспий подтолкнули Петра I к мысли о грандиозном проекте. Император задумал повернуть реку Амударью и направить ее в сторону Каспия. Это позволило бы установить надежный торговый путь от Москвы до самого сердца Средней Азии и далее, на восток. Дело стало за малым: нужна была достоверная карта Каспийского моря.
Конечно, подобные карты уже имелись, но насколько можно было им доверять? Во всяком случае, Федор Иванович высказал большие сомнения в точности карты Кожина (одной из наиболее известных), удивившись тому, как ее составитель «на верблюдах ехав, моря описать осмелился». Как бы там ни было, но в 1719 году на Каспий отправляется экспедиция под руководством голландца Карла Вердена, служившего ранее штурманом на шведском флоте и взятого русскими войсками в плен. С ним то на восток двинулся и Федор Соймонов. На протяжении нескольких месяцев они бороздили воды таинственного моря, изучали его берега, замеряли глубины и описывали острова. В итоге была создана достоверная карта Каспийского моря. О значении этого открытия можно судить по восторгам членов французской Академии наук, получивших карту в подарок от Петра I. «Есть за что благодарить сему победителю-академику! — восклицал академик Фонтенель, имея в виду российского императора. — Мы, наконец, знаем подлинную фигуру сего моря, которая совсем не сходствует с прежнею и обыкновенною».
Как всякого увлеченного делом мастера, Соймонова манили другие земли, лежавшие куда как севернее Индии и Бухары. Во время Персидского похода он изложил свои мысли императору Петру. Мореход Соймонов говорил о трудностях, которые преодолевают европейцы, стремящиеся в Восточную Индию, то есть, Америку. О долгом опасном пути вокруг Африки и мыса Доброй Надежды. Хотя, российские моряки могли бы достигнуть той же Калифорнии гораздо быстрее, отправляясь от берегов Камчатки или иных мест в Восточной Сибири. Никто не знал точно, какие богатства ждали их в далекой Америке, одно было ясно — они сказочно велики. Однако Петр прервал полет мыслей пылкого путешественника: «Слушай, я то все знаю, да не ныне, да то далеко». Его влекла Индия, а русский император не любил размениваться по мелочам. Впрочем, Соймонов не оставил своей мечты о Сибири. Вот только встретится он с ней в совсем не завидном статусе кандальника…
Под звон кандальный
Артемий Волынский, будучи ставленником правящего страной канцлера Бирона, сделал головокружительную карьеру, став в 1738 году кабинет-министром. Стремительный взлет к вершинам государственной власти затуманил ему голову и толкнул на безрассудный шаг: вступить в противоборство со своим недавним покровителем. Интрига развивалась под знаменем борьбы с «иностранным засильем» при дворе. Хотя ничего такого и не было: строго говоря, прибалтийские дворяне вроде Бирона были такими же российскими подданными, как и все остальные, да и цифры доказывают, что было их не так уж много. Просто к тому времени многие «птенцы гнезда Петрова» забыли, что первых иностранцев в Россию стал приглашать не кто иной как Петр I. К тому же искушение использовать зарождающийся русский национализм в политических целях было слишком велико.
Волынский переоценил свои силы — хитроумный Бирон обыграл его, нанеся опережающий удар. В апреле 1740 года кабинет-министр и люди его окружения были арестованы, началось следствие. 30 апреля пришли за Соймоновым — он был одним из друзей Волынского, часто встречался с ним и обсуждал состояние дел в государстве. В Тайной канцелярии, куда поступили арестованные, сознавались все. Историки разыскали собственноручные показания Федора Ивановича, написанные сперва его обычным твердым почерком, затем — после дыбы — дрожащим и почти неразборчивым. Соймонов признал практически все обвинения, как, впрочем, и остальные — другой исход дела в то время не признавался. К середине июня «розыск» был окончен, и специально созданное генеральное собрание вынесло свой приговор. Он был довольно жесток, даже для того сурового времени. Наименее причастным должны были всего-то… отсечь голову.
Волынского, как «главного злодея», осудили к вырезанию языка и посажению на кол. Соймонова приговорили к четвертованию. Это означало, что палач должен был последовательно отрубить ему обе руки, затем обе ноги и только после этого голову. Именно так в свое время был казнен Степан Разин. Можно себе представить ужас ученого вельможи, осужденного к этой страшной казни. Однако императрица Анна Иоанновна решила «проявить милосердие» и своим указом смягчила судьбу осужденных.
В итоге четвертование досталось Волынскому. Соймонова же обрекли на битье кнутом и вечные каторжные работы в Охотском остроге. 27 июня 1740 года кнут палача, сделанный из заостренных кожаных ремней, предварительно вымоченных в молоке и высушенных на солнце, оставил свой неизгладимый след на спине бывшего прокурора. В документах сказано, что он был бит «нещадно», то есть, получил не менее 30 ударов. Навеки сгинул дворянин Федор Иванович Соймонов, его место занял Федька-каторжанин…По тем временам это был 49-летний старик, которому предстояло до конца жизни варить соль в Охотске ныне Хабаровского края. Впрочем, не прошло и пары месяцев, как в тяжелых родовых муках умирает царица Анна Иоанновна. Еще через три месяца случается очередной дворцовый переворот, при котором свергается власть Бирона. Как недавно Соймонов, он тоже примеряет кандалы, отправившись в них в уральское местечко Пелым. Указом новой царицы Елизаветы Петровны Федора Ивановича решено было вызволить из дальневосточной каторги и доставить его в любую из принадлежавших ему деревень. Достоверно известно, что 13 апреля 1741 года капрал Тимофей Васильев получает приказ немедленно отправиться в Охотский острог.
Тобольский историк Николай Абрамов записал, как дальше было дело. Добравшись до сибирской столицы, капрал обнаружил, что никто не может ему указать, где именно находится искомый колодник. День за днем, месяц за месяцем ездил он по бескрайней сибирской каторге: просматривал списки, вглядывался в лица, расспрашивал кого только мог — все было бесполезно. Такая же неудача постигла его и в Охотске — Соймонова не было нигде. Капралу оставалось лишь возвратиться с повинной головой в Петербург и признать, что он не смог исполнить указ императрицы. Как это нередко бывает, помог случай.
Заглянув как-то на кухню каторжников, капрал Тимофеев на всякий случай спросил хозяйку: «Не знаешь ли ты здесь, в числе каторжных Федора Соймонова?» «Нет, такого у нас нет», — ответила женщина. Потом подумала, повторила пару раз про себя «Федора, Федора…» и вдруг сказала: «Вон, там в углу спит Федька-варнак, спроси, не он ли?» Повернувшись, капрал увидел спящего на голом полу старика, седого, обросшего, в суконном зипуне. Лишь после долгих расспросов тот решился ответить: «Да, я некогда был Федор Соймонов, но теперь несчастный Федор Иванов» и заплакал. Можно представить себе потрясение хозяйки, увидевшей, как капрал вдруг обнял седого кандальника, заплакал и молвил: «Государыня Елизавета Петровна вас прощает».
Впрочем, помилование того времени не означало полной реабилитации. Соймонову лишь «отпустили оную вину». 17 марта 1742 года соответствующий указ был зачитан на площади перед Успенским собором в Кремле, князя накрыли знаменем и вернули ему шпагу, отобранную при аресте. Но это означало одно: государыня помиловала его,
При подготовке публикации использовались источники: hrono.ru, az.lib.ru, rulex.ru.
Фото persons-info.com